Письма солдат Великой Отечественной - это ладони, протянутые для рукопожатия сквозь толщу лет

Можно с уверенностью сказать, что не найти такой семьи ветеранов Великой Отечественной войны, в которой бы не хранились письма с фронта. Перевязанные ленточками, бережно завернутые в материю, уложенные в шкатулки, они стали бесценной домашней реликвией, частью истории. И не только семейной. Я вглядываюсь в потемневшие от времени листочки, и слышу, как в тишину врываются голоса из далекого прошлого.
С каким нетерпением ждали этих писем в тылу, с замиранием сердца следили за выражением лица и руками почтальонов, вынимающих конверты из сумки: что там? похоронка или письмо? Письма читали и перечитывали всей семьей помногу раз, выучив наизусть от первого до последнего слова. Их с радостью показывали друзьям, соседям, сослуживцам. И неважно, что шли письма порой долгие месяцы: раз есть весточка, значит, есть надежда, что жив родной и близкий человек. А надежда, как известно, умирает последней.
Бережно, чтобы не порвать ветхой бумаги, я перелистываю старые солдатские письма и кажется, что они до сих пор покрыты пылью фронтовых дорог, хранят запах походных солдатских костров, сырой окопной земли, пота, крови, пороховой гари… Хрупкая бумага, выцветшие строчки, написанные в основном карандашом, реже – чернилами. О чём они? Об ужасах войны? О боевых подвигах? Вовсе нет. Да, каждое письмо проникнуто духом ненависти к захватчикам, яростным желанием бить врага до последней капли крови, но редко в каком из них найдешь описание битв, военных тягот и страданий. Клочок бумаги, наскоро разглаженный на колене, на солдатской каске, на планшетке, на бруствере окопа, на стволе орудия настолько мал, что жалко тратить его на ненужные подробности. Сообщать о прошедших сражениях? Сколько их уже было, обо всех не расскажешь. К тому же и время поджимает, вот-вот начнётся артиллерийская подготовка, а за ней и атака. Так писались многие письма – второпях, в перерывах между боями, а то и перед самым боем. Оттого и текст предельно лаконичен: «Здравствуйте, дорогой отец, дорогая мама, братишки Сейит, Байрамдурды, Аннамухаммет, сестренка Огулджерен и наши соседи! У меня всё хорошо. Третий день стоим в обороне. Мы отбросили врага, но он в любой момент может начать новую атаку. Не имею возможности описать все подробности. Вернусь – поговорим...» (Из письма гвардии лейтенанта Курбана Оразова). А дальше – почти ничего о себе, только вопросы, вопросы, вопросы: как здоровье мамы, как учится младший брат, насколько подросла сестрёнка, сделан ли дома ремонт, успели ли собрать урожай, что нового у родственников и т.д.
Почти все фронтовые письма наполнены удивительной заботой о ближних, о тех, кого они ушли защищать, о ком думали шагая по фронтовым дорогам, и эта незримая, но прочная нить связывала их все годы войны. Невозможно без душевного волнения читать письма Юры Курбанова своей маме, в Векильбазарский район. Столько в них наблюдательности, трогательной ласки, внимания. Иные письма – клубок обнаженных нервов, в котором сплелись боль за потерю друзей, переживание за то, что приходится отступать и яростное желание биться с врагом до последней капли крови. Кажется, что писал их взрослый, много повидавший человек и трудно поверить, что автору не было еще и восемнадцати, когда он ушел на войну. Он так и остался восемнадцатилетним.
Передо мною письмо земляка Юры Курбанова, марыйца Ходжанияза Галимджанова. «Здравствуйте, многоуважаемая Мама! (именно так, с заглавной буквы.- В.З.) Шлю Вам свой искренний, горячий привет. Как видите, я жив-здоров, чего и Вам желаю от всей души. Как Вы поживаете? Надеюсь у Вас всё благополучно? Здесь у нас уже наступили холода, а у вас, конечно, еще тепло и пыль стоит на нашей улице, когда проезжает грузовик...» Всего несколько писем успел написать домой в Мары Ходжанияз Галимджанов. Его мама была неграмотной, и письма ей читали соседи. Последнее письмо в лежащей передо мной папке отпечатано уже на пишушей машинке. Оно тоже адресовано маме Ходжанияза, но лучше бы его не открывать. «Ваш сын Галимджанов Ходжанияз проявил в бою мужество и геройство, был ранен и умер от ран. Похоронен 29.09.1943г. на городском кладбище в г.Курске». У кого хватит сил прочитать матери такое письмо?!
А сколько неизбывной нежности и теплоты в строчках, обращенных к любимым девушкам и жёнам! Как будто писала их не рука, а сердце, наполненное светом. Они сотканы из любви. «Любимая! Ты себе представить не можешь, как я был рад твоему письму – тёплому, доброжелательному, искреннему. Я очень долго живу без тебя – целый год. Никогда я не предполагал, что в мою радостную, солнечную жизнь войдет такое безжалостное чувство, как расставание с родными и дорогими мне людьми. Я помню каждую твою чёрточку, каждую, даже самую маленькую родинку, каждую клеточку твоего тела... Не хотелось бы заканчивать письмо на мажорной ноте «соль». Нужная нота, но с привкусом слёз. Давай лучше попрощаемся на мажорной ноте «до». Она звучит как обещание – до встречи, до свидания. И всё же не прощаюсь с тобой, с верой, надеждой, любовью» (из письма капитана Павла Орлова любимой женщине). Читаешь эти простые, чистые, ласковые слова, и комок подступает к горлу, как будто написаны они в последний раз. Впрочем, так и было – почти каждое письмо писалось как последнее.
Скупо, неохотно сообщают солдаты в письмах о своих ранениях, а то и вовсе обходят молчанием – у воина не в чести стонать и жаловаться. К чему доставлять лишнюю боль семье, которая и без того хлебнула горя. Но домашние сами догадываются об этом, особенно если в отдаленное туркменское село приходит фронтовой треугольник, подписанный незнакомой рукой, а сама корреспонденция начинается с непривычных для слуха оборотов украинской речи: «Здравствуйте, мои дорогие! У перших строках своего письма хочу сообщить, что я жив и здоров, чего и вам желаю...» Всё понятно, раз писал не сам, значит лежит в госпитале дорогой отец, сын, муж, брат. Но жив, слава Богу, а это главное.
С не меньшим, а, может быть и с большим нетерпением ждали на фронте вестей из дома! Каждое такое письмо – праздник для солдата. Вглядывались бойцы в родной почерк и мысли уносили их далеко-далеко, за тысячи километров от фронта, в далекие спокойные края где нет кононады, дыма пожарищ, смерти, где с подворий пахнет кизячным дымом, где расцветает урюк у окна, а по улицам бегают загорелые ребятишки. Письма из родного края поддерживали дух бойцов, вселяли надежду, укрепляли веру в победные, светлые дни. Ходжа Мередов из Казанджика познакомился с красивой девушкой Ляле накануне войны. Уходя на фронт, он назвал её своей невестой. Первые письма солдат неизменно начинал словами «Здравствуй, родная моя, единственная!» И вдруг весточки перестали приходить. Девушка терялась в догадках, приготовившись к самому худшему, но вот, наконец, пришло еще одно письмо. Оно было коротким, всего несколько строчек. Ходжа сообщал, что был тяжело ранен в бою, потерял ногу и просил его не ждать, - безногий калека ей не пара. Два дня проплакала Ляле, а потом села к столу и написала ответ: «Здравствуй, мой Ходжа! О своей беде не горюй. Это же война, а на войне без потерь не бывает. Возьми себя в руки, будь мужественным, ты же солдат! Даже если ты потеряешь вторую ногу, я всё равно буду ждать тебя. Больше не надо говорить об этом. Хоть ты и не назвал меня своей женой, я буду ждать тебя как жена, как ждут все наши женщины». Это письмо было вместе с солдатом во всех его долгих скитаниях по тыловым госпиталям. С ним он вернулся в Казанджик. Ходжа и Ляле прожили вместе сорок лет, и это письмо стало нравственным завещанием для их семерых детей.
Знакомый фронтовик, рассказывал, что письма от жены он берёг всю войну, не потеряв ни одного из них. Получив очередное письмо, он хранил его в кармане гимнастерки, читал и перечитывал, пока не приходило следующее. Когда в ноябре 43-го их полк попал в окружение, приказано было уничтожить все служебные бумаги, карты, оставив только личные документы. Все понимали, что означает этот приказ. Многие его однополчане со слезами на глазах сожгли письма из дома, чтобы их не касались чужие вражеские руки, чтобы не ступали по ним кованые сапожища, чтобы не глумились над ними фашисты, читая найденные в сумках убитых солдат и офицеров письма их жен. Он не стал сжигать писем своей любимой, веря, что они обязательно должны спасти его, как спасали уже не раз. Он вернулся с войны и сбереженные ими обоими письма многие годы хранились вместе, в одной связке.
Солдатские письма... Незатейливые фронтовые треугольники, похожие на бумажные кораблики, которые дети пускают в далекое плавание по арыкам, в надежде, что они когда-нибудь достигнут океана. И они находили свой Океан и порт своей приписки. За каждым таким письмом судьбы тысяч и тысяч наших соотечественников, людей разных национальностей и профессий, молодых и умудренных жизнью, живых и павших. Главная их ценность в том, что они написаны людьми, которые четыре года каждый день стояли лицом к лицу со смертью, вынесли на своих плечах неимоверные тяготы войны, проявили беспримерное мужество, не струсили, не повернули назад, не предали Родину.
Многие авторы писем уже ушли в мир иной, а строчки, выведенные ими, живы по сей день. Письма – это не только голоса солдат Великой Отечественной, это их ладони, протянутые тебе для рукопожатия сквозь толщу лет. Сами того не подозревая, они стали не просто семейной реликвией, но и частью нашей общей истории. В трудные годы войны солдатские письма наполняли радостью, согревали сердца родных и близких фронтовиков, вселяли в них надежду, укрепляли веру в то, что придут победные, светлые дни. Потому и пришла Победа, что её очень ждали.

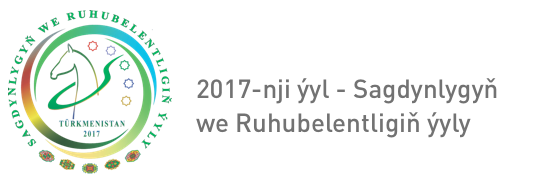
 HABARLAR
HABARLAR